 |
Андрей
Пионтковский |
||
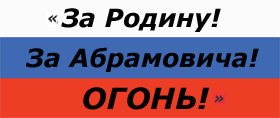 |
||
О
«ЯБЛОКЕ» |
| 30 августа 2000 года
«А далеко, на севере – в Париже...» В пушкинском «Каменном госте» есть поразительная строчка. Кто-то из персонажей, кажется Лаура, говорит: «А далеко, на севере – в Париже...». Она часто приходила мне в голову в минуту грусти или радости, как какая-нибудь моцартовская мелодия. Мало того, что она удивительно музыкальна в русском звучании. Я всегда был убежден, что поэт не просто обозначал в ней место действия своей трагедии. В ней был свой тайный смысл и удивительный воздух свободы. Она должна была показаться жандармам из III-его отделения гораздо более опасной, чем открыто тираноборческие стихи поэта: «Тебя, твой трон я ненавижу». Тираны любят, когда их ненавидят. Это наполняет их чувством собственной значимости и позволяет расширять штаты обожаемых ими спецслужб и спецпредставителей. Тираны терпеть не могут, когда их не замечают. Написать в ледяном николаевском Петербурге – «А далеко, на севере – в Париже...» – означало абсолютную свободу европейского гения, его побег из стен имперской тюрьмы. А. Пушкин был невыездной, как много поколений русских людей до него и после него, как то поколение, к которому и я принадлежал. Изоляция от Запада была настолько полной и беспросветно вечной, что иногда нам казалось, что Европа – это виртуальная реальность, существующая только в книгах, а волны Атлантического океана разбиваются о берега Белоруссии. Безнадежно отрезанные от другого мира, мы знали и любили его марсианскую цивилизацию, может быть, больше, чем его аборигены. Прошло несколько десятилетий, я пережил, не помню сколько генеральных секретарей и президентов, и неожиданно оказался на улицах Барселоны, где молодой английский идеалист-интербригадовец Эрик Блэр стал Джорджем Оруэллом, нанесшим смертельный удар коммунизму своими великими книгами. Меня всегда поражало, как этот англичанин, никогда не бывавший в СССР и всего лишь наблюдавший, как местные коммунисты с помощью старших советских товарищей расправлялись над своими политическими противниками в Барселоне, сумел так удивительно верно и в таких узнаваемых деталях передать и дух нашей эпохи, и ее быт. Но сейчас меня больше интересовал в Барселоне не Дж. Оруэлл, а Антонио Гауди, человек, дерзнувший не замечать гравитации. Он опрокидывал ее своими знаменитыми зеркальными макетами, и его дома-цветы падали вверх навстречу солнцу. На залитой солнцем площади Гауди я запрокинул голову, чтобы лучше разглядеть церковь Саграда Фамилия и подумал: «А далеко, на севере – в Париже – Но только зачем они стали достраивать собор? В незаконченности, оставленной Мастером, – дыхание его Времени, его бессмертие, его муки творчества и его героическое поражение. Разве жизнь каждого из нас – не незаконченный и оборванный на полуслове набросок текста... |
|
<<<< Думая о немыслимом |
>>>> В ожидании Ого-го |
 |

