|
Часть вторая
От экономики к политике
Характер и судьба
То, что гусеница назовет концом света, мастер назовет
бабочкой — так считает философия Востока. Разглагольствования некоторых
ученых мужей о деградации, об усталости народа не что иное, как мнение
гусеницы. Я, наоборот, вижу духовное пробуждение людей, чувствую в людях
неизрасходованный, нерастраченный запас сил. И тем сильнее давит на сердце
несуразица, непредсказуемость российской политики. Я никогда не идеализировала
Ельцина и его окружение, но сейчас их ошибки видны невооруженным глазом.
В их ошибках есть большая опасность.
Нечто подобное уже происходило в 199] году, только
тогда опасность была над Советским Союзом, а теперь ... Теперь такая же
судьба может постигнуть и Россию. «А опасность, которая сегодня возникла,
— пишет Г. Явлинский, — заключается в следующем: пока вы смотрите наверх,
что вам там что-то решат или сделают, под вами разъезжается земля. Ребята,
она просто уходит, одна нога у вас тут, а другая — там. И вместо того чтобы
думать, как взять багор, как встать, как скрепить разъезжающиеся половины,
ты ждешь, не жди» *.
* Сараскина Л. Кто там, на политическом горизонте?
// Знамя. 1993. № 3. С. 165.
Историческая судьба России связана с миллионами человеческих
судеб. Грандиозность пережитой нами катастрофы не знает аналогий в мировой
истории. Нам не поможет ни Пиночет, ни скопированная с «чужой выкройки»
демократия. Бессмысленно спорить с тем, что пока нет частной собственности,
не будет и демократии. Это правильно. Но это полуправда. Истинно также
и то, что пока нет гражданского общества, людей, обладающих духовным, сильным
характером, не будет государственности, а будет вечный хаос и грязь. Государственность
уходит корнями в человеческое сердце или, как сказал Г. Явлинский, должна
прорастать снизу, с корней травы. Частная собственность обязательно нужна,
но это уже потом, а в начале... В начале, наверное, все же человек, который
должен построить демократическое общество. Надо помнить, что ужас, охвативший
нашу страну, не только разрушил слабые души, но и закалил сильные. В теплой
инкубаторской атмосфере Советского Союза люди ходили по твердой земле,
исключающей падение, и чувствовали над собой потолок, исключавший взлеты.
Правда, всегда есть место для подвига, но само понятие подвига размывается
сытой размеренной жизнью. Наше время, поставившее всех нас на край пропасти,
дает равные возможности и для взлета, и для падения. Именно сейчас в провинциальных
городах и деревнях выкристаллизовывается национальный характер, которым
во все времена славился человек, живущий в России. Человек, обладающий
этим характером, может найти верный путь и вернуть России благоденствие.
Обладает ли этим характером Г. А. Явлинский? Друзья Григория
Алексеевича редко говорят об этом, тем более в прессе. Объясниться в любви
и нахваливать, восхищаться и благоговеть, трепетно подрагивая нервными
окончаниями, скорее дело не женщин даже, а баб. Не знаю, есть ли в окружении
Григория Алексеевича такие люди, а вот «друзья», ласково вставляющие палки
в колеса, есть. Если бы не они, то мы бы о Г. А. Явлинском вообще ничего
не узнали. Например, политолог А. Кива — он так часто и много говорит о
Г. А. Явлинском, что не доверять ему просто стыдно. «Мода на Явлинского,
— пишет он, — покоилась как на политической конъюнктуре, так и на некоторых
константах русского национального характера»*. Жаль, что он не объяснил
на каких именно: сила духа, мудрость, доброта...? Несмотря на мрачные прогнозы
А. Кивы, Явлинский и сейчас еще в моде. Очевидно, мода, если она зижцется
на константах, переходит в призвание. О том, на каких константах основан
характер Григория Алексеевича и каким образом характер определил его судьбу,
попытаемся выяснить.
* Российская газета. 1996. 21 марта. С. 3.
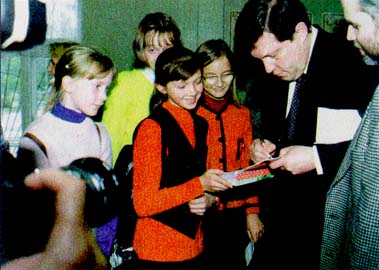
Григорий Алексеевич — частый гость в подшефной школе имени
А. С. Макаренко. Он помогает им, они — ему. Здесь можно отдохнуть душой.
Общение с детьми — это всегда радость.
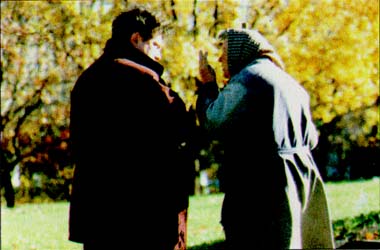
Его часто упрекают в гордости и больших амбициях, но так
ли это? Намного чаще люди, встречавшиеся с ним, говорят о легкости общения,
искренности, о его умении слушать.

В 1998 году Г. Явлинский был радушно встречен работниками
Онежского завода (Карелия).

В 1998 году Г. Явлинский был в Карелии. И здесь тоже возле
него было много людей, желавших пообщаться с ним, узнать его не по газетным
статьям и телепередачам.

Кроме будней есть еще и праздники, когда испечен яблочный
пирог, когда собираются друзья и отмечается день рождения думской фракции.

Мало кто знает, что в школьные годы Г. Явлинский был чемпионом
Украины по боксу среди юниоров. И сейчас он часто бывает в спортзале, пожалуй,
единственном месте, где он дает волю своим эмоциям.

Григорий Алексеевич Явлинский на съемках телепередачи
Ольги Кучкиной в 1998 году.
С десятилетнего возраста он увлекался экономикой. В более
зрелые годы замахнулся мыслью на механизм управления народным хозяйством
СССР. С приходом к власти М. Горбачева участвовал в разработке экономической
программы правительства Рыжкова—Абалкина. В 1991 году стал заместителем
И. Силаева на посту председателя Комитета по управлению народным хозяйством
РСФСР. Благодаря усилиям Г. Явлинского был подписан договор об Экономическом
сообществе независимых государств. Созданию Экономического сообщества помешало
Беловежское соглашение, породившее золотушного и недоношенного младенца
— СНГ.
Григорий Алексеевич и тогда, и сейчас отстаивает идею
консолидации бывших республик СССР. В программе «ЯБЛока» записано: «Наша
приоритетная задача — заключение экономического Союза на базе договора,
подписанного в октябре 1991 года». Под напором общественности в сентябре
1993 года вновь был подписан договор об Экономическом сообществе, но ...
остался на бумаге. Почему же Григорий Алексеевич позволил случиться такому
кощунству? Почему не встал горой на защиту своего детища? Что это слабоволие?
Нерешительность? Неумение постоять за себя и за свои идеи? Или здесь что-то
другое? Наверное, это будет легче понять, если вспомнить, что таким же
или очень похожим образом были сметены со столбовой дороги истории и Верховный
Совет, и съезд народных депутатов, тоже заступившиеся за идеи Явлинского.
За несколько дней до своей кончины — 17 октября 1993 года
совместное заседание Верховного Совета заслушало Меморандум Хасбулатова.
Р. Хасбулатов был не только главой парламента, но и председателем Совета
Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он предложил трансформировать СНГ в более
тесное Евразийское сообщество и выдвинул идею прямых выборов в Межпарламентскую
ассамблею.
Надеюсь, читатель простит мне, может быть, не очень корректное
обращение к образу страуса. Дело в том, что страус панически боится всякого,
кто выше его ростом. Межпарламентская ассамблея сама по себе роста невысокого,
но ежели прямые выборы ввести, то рост ее сильно увеличивается и даже оставляет
где-то внизу Кремль со всеми его обитателями. Видать, кого-то из этих обитателей
так же, как страуса, пугал «высокий рост» ассамблеи, что и стало одной
из причин разгона парламента. Договор об Экономическом сообществе Г. Явлинского
тоже претендовал на очень высокий рост.
И в 1991, и в 1993 году в борьбе с Меморандумом Хасбулатова,
с договором Г. А. Явлинского использовался один и тот же прием — игнорирование
права законных документов на жизнь. А если проще, то этот прием называется
силовым авантюризмом. Договор об Экономическом сообществе был подписан
с соблюдением всех законов и формальностей в октябре 1991 года. Была там
и подпись Ельцина. И этот договор никто не отменял, его просто проигнорировали
— вначале трое, вышедшие из Беловежской пущи, затем весь бывший СССР. Ученые
сразу же поспешили убедить возмущенных сограждан, скандирующих «Советский
Союз!» (бедняги тщетно скандировали это и в 1993 году,* а кое-где кричат
и сейчас), в объективной закономерности этого процесса.
* Журналистка «Молодой гвардии» А. Русакова искренне удивляется
лозунговому мышлению толпы, жаждущей возвращения Советского Союза. Отказала
она митингующим в самостоятельном мышлении лишь потому, что. по ее мнению,
«не могут сотни людей заниматься анализом взаимоотношений России и республик».
См.: Русакова А. Советский Союз или Россия? Молодая гвардия. 1993.
№ 11—12. С. 29.
В 1993 году накануне кровавых октябрьских событий съезд
вносит поправку в Конституцию — в случае принятия мер по прекращению деятельности
представительных органов власти со стороны президента, его отрешение от
должности происходит автоматически, а власть автоматически переходит вице-президенту.
Это решение съезда народных депутатов, а также решение
Конституционного Суда, лишавшее Б. Ельцина полномочий, никто не отменял,
их просто проигнорировали исполнительные органы власти.
И в 1991, и в 1992—1993 годах разрушению Союза, разгону
народных избранников сопутствовал всплеск проельцинских настроений. После
21 сентября все социологические службы зафиксировали массовую поддержку
Б. Ельцина и новый всплеск популярности. Одновременно происходило падение
рейтинга его оппонентов, то есть врагов исполнительной власти. В 1991 году
пресса с наслаждением топтала Г. А. Явлинского вместе со всеми его программами
и договором. В 1993 году позору и бесчестию предали народных депутатов.
Может быть, и они тоже безвольные амебы, не способные постоять за себя?
Вряд ли. Ведь был не только истеричный Хасбулатов, но и Руцкой и такие
народные герои, как Гдлян с Ивановым, и многие другие, известные всем как
мужественные и бесстрашные люди.
Пожалуй, не в безволии депутатов дело и уж тем более не
в безволии Григория Алексеевича, а в том, что противодействовать силовому
авантюризму можно только силовым авантюризмом. Короче говоря, когда тебе
ставят подножку, то каким бы храбрым ты ни был, все равно упадешь. Другое
не менее важное обстоятельство заключается в том, что ни Явлинский, ни
депутаты не получили массовой поддержки, но наоборот — всеобщее осуждение.
Но психология толпы — не тема этой книги.
Как выяснилось, причина, из-за которой договор об Экономическом
сообществе не был претворен в жизнь, заключается не в характере Явлинского,
а скорее в не-востребованности обществом его идей. В то же время нельзя
сказать, что общество заинтересовалось идеями Б. Ельцина, потому что у
него их вообще не было. Он вдохновил, наверное, внешней видимостью силы.
В 1991 году Григорий Алексеевич в надежде спасти Союз
взывал к совести и разуму лидеров: Горбачева, Ельцина, парламента... Это
не помогло. Союз распался и до сих пор некоторые умники обвиняют в этом
именно Г. А. Явлинского. Сейчас, размышляя о Федеративном договоре в книге
«Нижегородский пролог», он обращается к читателям, к избирателям.
Рядом с этим Федеративным договором поблекла и книга Р.
Никсона (политическое завещание, пропитанное ядом ненависти к СССР), и
мечты Г. Киссинджера — бывшего государственного секретаря США, сказавшего:
«Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения
ее народов в единое, крепкое, централизованное государство». Никакой враг
не причинит нам столько зла, сколько причиняет тухлая воля и беспомощная
дряблая мысль правителей.
Федеративный договор начали разрабатывать еще в 1990—1991
годах. Подписали с фейерверком 31 марта 1992 года, а в апреле одобрили
на VI съезде народных депутатов. Он был включен в Конституцию Российской
Федерации. Однако не все подписавшие находились в соответствии с договором
в равных условиях. А некоторые и вовсе отказались подписывать этот договор:
Татарстан, Чечня, Тюменская область. Кто они? И где, если не в России?
Нет ответов на многие вопросы.
Федерация договорная или конституционная? С субъектами
Федерации от национальных меньшинств вроде бы понятно — это национально-государственные
образования, но каков статус руссконаселенных краев и областей или их права
уже никого не интересуют? До каких нижних уровней должен доходить федеральный
закон? В области, республике могут возникнуть ситуации, требующие немедленного
разрешения, но как быть, если федеральный закон по этим вопросам еще не
принят? Правомерно ли говорить о федеративном устройстве, если Центр не
реагирует на нарушения Конституции в республиках, лидеры которых лояльны
президенту? Может быть, это конфедерация?
По причине своего легкомыслия, я все же рискну подвести
итог под Федеративным договором словами из детской песенки: «Только как
их надевать? Хвостик некуда девать». Только у этого договора было аж целых
три «хвостика» и много непонятных ответвлений.
Интересный анализ договора сделал Г. Явлинский. Он дошел
до конца, то есть до полной систематизации всех «хвостиков» и «ответвлений».
Он нарисовал географическую карту России. Каждая территория в зависимости
от предоставленных ей прав была окрашена в свой цвет. Напомню, что договор
состоит из трех договоров о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами и органами власти субъектов Федерации трех
типов: суверенных республик в составе Российской Федерации; краев, областей,
городов Москвы и С.-Петербурга; автономной области и автономных округов.
Карта получилась трехцветная. Черным он окрасил территории со статусом
свободной экономической зоны, серым — с дополнительными экономическими
правами, серо-буро-малиновым — ходатайствующие о предоставлении дополнительных
экономических прав. В соответствии с Федеративным договором, состоящим
из трех договоров, права человека меняются, если он из черной области переезжает
в серую и наоборот. А если человек переехал в Москву или С.-Петербург,
то права его и вовсе увеличиваются.
Григорий Алексеевич уже не задает вопросы, но просто констатирует
факт: «Такое разграничение сделано вне зависимости от того, что в преамбуле
первого договора говорится о реализации «приоритета прав свобод человека
вне зависимости от национальной принадлежности и территории проживания,
а также права народов на самоопределение»... Особенность наших Федеративных
договоров и в том, что «Российская Федерация», субъект, который должен
быть обозначен в договоре, права которого еще только предстоит определить
субъектам федерации, сам подписывает все три договора на правах субъекта»*.
* Явлинский Г. А. Россия — поиск ориентиров //
Октябрь. 1993. № 2.
Пока наверху решался философский вопрос субъекта—объекта,
провинция решила свои вопросы сама. 30 января 1992 года в Киеве подписали
уникальный договор — об экономическом сотрудничестве между Украиной и Ярославской
областью. Речь шла о взаимных поставках продукции. На Украине открыли постоянное
представительство Ярославской области, а в Ярославле — соответствующее
постпредство от Украины. Помнится, в романе Ильфа и Петрова Нью-Ва-сюки
уже побывали в ранге мировой столицы, правда, речь шла только о шахматах.
Но все это смешно, когда читаешь роман, а когда это становится твоей жизнью,
то... Вдохновленный Федеративным договором, Свердловский облсовет летом
1993 года провозгласил Уральскую Республику в составе России, следуя примеру
Вологды. Осенью этого же года порывы регионов остужаются указом Б. Ельцина,
дезавуирующим их решения.
«Вместе с тем Федеративный договор, проект новой Конституции,
а также череда эксклюзивных законодательных актов и полутайных договоренностей
о взаимоотношениях Центра и с отдельными регионами России, число которых
перевалило за полсотни, свидетельствуют лишь об отсутствии у теперешнего
реформаторского Центра адекватной изменившейся ситуации региональной политики,
что связано с неумением и нежеланием «встроить» интересы регионов в общего-судартвенные.
Во многом традиционное, предусматривающее пассивную роль регионов содержание
этого раздела в правительственных программах свидетельствует об органической
неспособности идеологии ре-форматорства «сверху» к выработке региональной
политики с учетом местных интересов»*.
* Явлинский Г. А. Россия — поиск ориентиров //
Октябрь. 1993. № 3 С. 159-160.
Некоторые так называемые специалисты уже мысленно расчленили
Россию на множество (около 100) государственных новообразований. А некоторые
республики всерьез думают о своем праве на самоопределение и о переделе
границ. Например, Республика Коми отстояла свое право законодательной инициативы,
право экспертизы проектов законодательных решений. В декабре 1993 года
раздались требования включения в конституцию республики статьи о том, что
Коми является суверенной республикой, наделенной правом выхода из состава
Российской Федерации. Требовали также и возвращение в состав Республики
Коми пяти районов, «переданных ранее» Архангельской области. Центр постепенно
утрачивает влияние на регионы. Но, по мнению Григория Алексеевича, проблема
дезинтеграции России еще не осознана. Это неизбежно отразится и на ситуации
с СНГ, усиливая ориентацию членов содружества, и на республиканский и областной
уровень.
Что в таком случае есть Россия? Русская национальная идея?
По поводу этой идеи сейчас много споров. Григорий Алексеевич говорит о
корнях травы, другие говорят о выплавлении какой-то странной «чисто политической
нации», а кто-то по носу щелкает, дескать, хватит вам искать правду, приехали.
«Разыгравшаяся катастрофа не может быть объяснена личными недостатками
советских руководителей, ошибками руководителей в политике, спецификой
большевизма и т. д. Она — результат всей предшествующей истории, неадекватной
и по целям, и по средствам — попытки утвердить «вселенскую правду», всеединство,
свое особое место в мире как универсально значимое. Эта попытка дала определенный
кратковременный эффект, но он быстро себя исчерпал, хотя то был, в известном
смысле, звездный час России, к которому нет более возврата»*. По мнению
автора А. С. Ахиезера, надо сосредоточиться на утилитаризме: звездный час
засветил в тарелке наваристого супа. Вот и выбирай: Явлинского с его мечтами
и идеями или Ахиезера с тарелкой супа.
* Политические исследования. 1994. № 6. С. 27.
Честно говоря, устала я от этих неразрешимых проблем.
Жила спокойно у себя дома, никого не обижала. И вдруг меня гонят из дома
в какую-то холодную темноту... А я хочу в России жить, досыта кушать и
хлеб насущный, и хлеб духовный.
Но долог и труден теперь путь к дому. Когда-то в Москве
все объединились в одном порыве. В 1991 году идея человеческой свободы
и свободы наций у многих вызывала искреннее вдохновение. Что же случилось
с теми людьми сейчас? Не в том ли секрет, что ими владела не столько идея
свободы, сколько жажда мщения? Мщения советской власти, КПСС, тоталитаризму,
мщение, переходящее в эйфорию? Уже в январе 1992 года Григорий Алексеевич
грустно констатировал: «Сегодня мы переживаем не только распад государства,
не только значительное падение уровня жизни людей, но и кризис демократического
движения. Его разрушительный потенциал оказался сильнее созидательного»*.
Судя по Федеративному договору, разрушительный потенциал еще не исчерпал
себя.
* Независимая газета. 1992. 14 января.
Под идею самоопределения наций рядились представители
местных национальных кланов, смущая легковерные сердца своих сограждан
пламенными речами. Смысл этих речей всюду был один и тот же — жажда власти,
безраздельной, большой, неограниченной. А одежды, драпирующие циничные
речи местных феодалов, были украшены призывами к расцвету культуры, к оздоровлению
экономики. Все это уже было.
В книге «Нижегородский пролог» Григорий Алексеевич приходит
к следующим выводам. Культура, искусство — все то, что относится к Царству
Духа, не регламентируется внешними законами. «Духовно свободный человек
живет в Царстве Духа, а не в Царстве объективации».
В 1991 году центробежные тенденции разметали когда-то
мощную империю, наводящую ужас на полмира. Сейчас те же тенденции действуют
внутри страны. Словно время повернуло вспять. Ведь печальный опыт бывших
советских республик уже доказал правоту Г. А. Явлинского, но этот урок
никого ничему не научил. Пожалуй, сейчас большинство населения бывшего
СССР, лидеры СНГ осознали, насколько важна идея единства. И тем не менее
все возвратилось на круги своя, но теперь уже в масштабах России. Теперь
самостоятельности взалкали Екатеринбург, Вологда... Во всем этом чувствовалось
сочетание изворотливости, цепкости местных элит и бесхарактерности, аморфности
подавляющего большинства, от имени которого выступали вновь испеченные
лидеры. Можно ли остановить вакханалию? Великие неудачи дают бесценный
опыт, из неудач извлекают уроки. Но наши правители не торопятся извлечь
уроки из неудачи, приведшей к распаду СССР. Недоученный урок будет повторяться
снова и снова. Теперь уже в масштабах России.
Когда Григорий Алексеевич выступал за сохранение Союза,
его дружно обвинили в имперских амбициях. Сейчас его стали упрекать попеременно
то в национализме, то в имперских амбициях. А по-моему, Г. Явлинский не
националист, не империалист, а обыкновенный человек, гражданин своей страны.
Судьба России — это не только высокие слова. Как можно с такой ненавистью
относиться к своей Родине, радоваться ее расчленению? Только больное сознание
недочеловека может радоваться, наблюдая агонию.
Русский народ всегда славился силой духа. Что же случилось
сейчас? Откуда это безвольное подчинение центробежным тенденциям, откуда
и когда попал в душу людей микроб саморазрушения? Где найти опору человеку?
Где найти опору России?
Ответ лежит не в демократических преобразованиях. А, может
быть, в историческом прошлом России, в духовной жизни россиян? Единство,
возрождение России отнюдь не в экономических преобразованиях, которые сами
по себе и нужны. Не изменят ничего к лучшему и социально-политические преобразования.
«Прорастать надо снизу, с корней травы»... Опору надо искать в собственном
сердце, ее нельзя получить извне: нет готовых рецептов возрождения России.
Вся страна и каждый человек, живущий в ней, должен решить этот вопрос сам.
Судьба определяется не только случайностью, но и характером, волей. Надо
ли было начинать с перестройки и ускорения, о которых так заботился М.
Горбачев? Или все же с воспитания духовного характера, с воспитания подвигом?
Духовный характер воспитывается не на эйфории разрушения,
не на насилии. Нужны новые, не разъединяющие, а объединяющие идеи. Нужен
новый не треххвостный, а единый федерализм, ведущий не к расчленению родины,
а к согласию. Нужны президентские выборы и новый президент... помоложе,
посимпатичнее, поумнее. Надо изначально выбирать высокие ориентиры. Кто
боится мечтать и не умеет верить, тот не только не сможет помочь себе,
но и не сможет принять помощь, если такая вдруг будет оказана.
Явлинского часто обвиняют в излишней мечтательности. Его
мечты до последнего атома измерены и вычислены с помощью математических
формул. В них нет пустого маниловского мечтательства, но есть благородство
мышления, которое воспринимается узколобыми как нечто чуждое повседневной
жизни. Он считает, что субъекты Федерации должны быть равными среди сильнейших.
Но такая «дерзость» натыкается на федеративный договор, на Конституцию,
на эксклюзивные законодательные акты и полутайные договоренности...
Однако он не одинок в своих мечтах. Многие люди мечтают
о восстановлении оборванных связей с бывшими республиками, о возрождении
единой России. Эти мечты тем сильнее, чем сильнее нарастание центробежных
тенденций. Они растут одновременно в обратно пропорциональной зависимости.
Мечты о возрождении России уходят корнями в историческое прошлое. Они крепче,
чем алчность местных князьков-феодалов, пожелавших написать историю России
по-своему Безусловно, мы переживаем сейчас очень тяжелое время. И мало
людей, способных подняться над хаосом боли и унижений. Но правое дело и
не может быть сразу, что говорится, от рождения массовым. Людей, способных
на духовный подвиг, не может быть много. Это всегда единицы. «Будем же
твердо уверенны в возрождении России. И доведем себя до очевидности в вопросе
о необходимости для России национального духовного характера. И тогда все
сложится само собою»*.
* Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего.
Новосибирск. 1991. С. 31.
Уже который год плачет Россия. Слезы не белые, а красные,
потому что смешались с кровью. Не от войны, не от стихийных бедствий сиротеют
и умирают наши дети. Никто не хочет войн и революций, но никто не знает,
где предел терпению русского человека и как беспощаден его бунт. Все беды
можно превозмочь, если знаешь, во имя чего приносишь жертвы. Неужели жертвы
этих лет напрасны? Сможет ли Г. А. Явлинский остановить этот танец святого
Витта? С тьмой нельзя бороться еще большей тьмой. С тьмой можно бороться
только светом. Его помыслы светлы, его мечты созвучны многим россиянам.
Дай Бог, чтобы он сумел, победил и построил. |