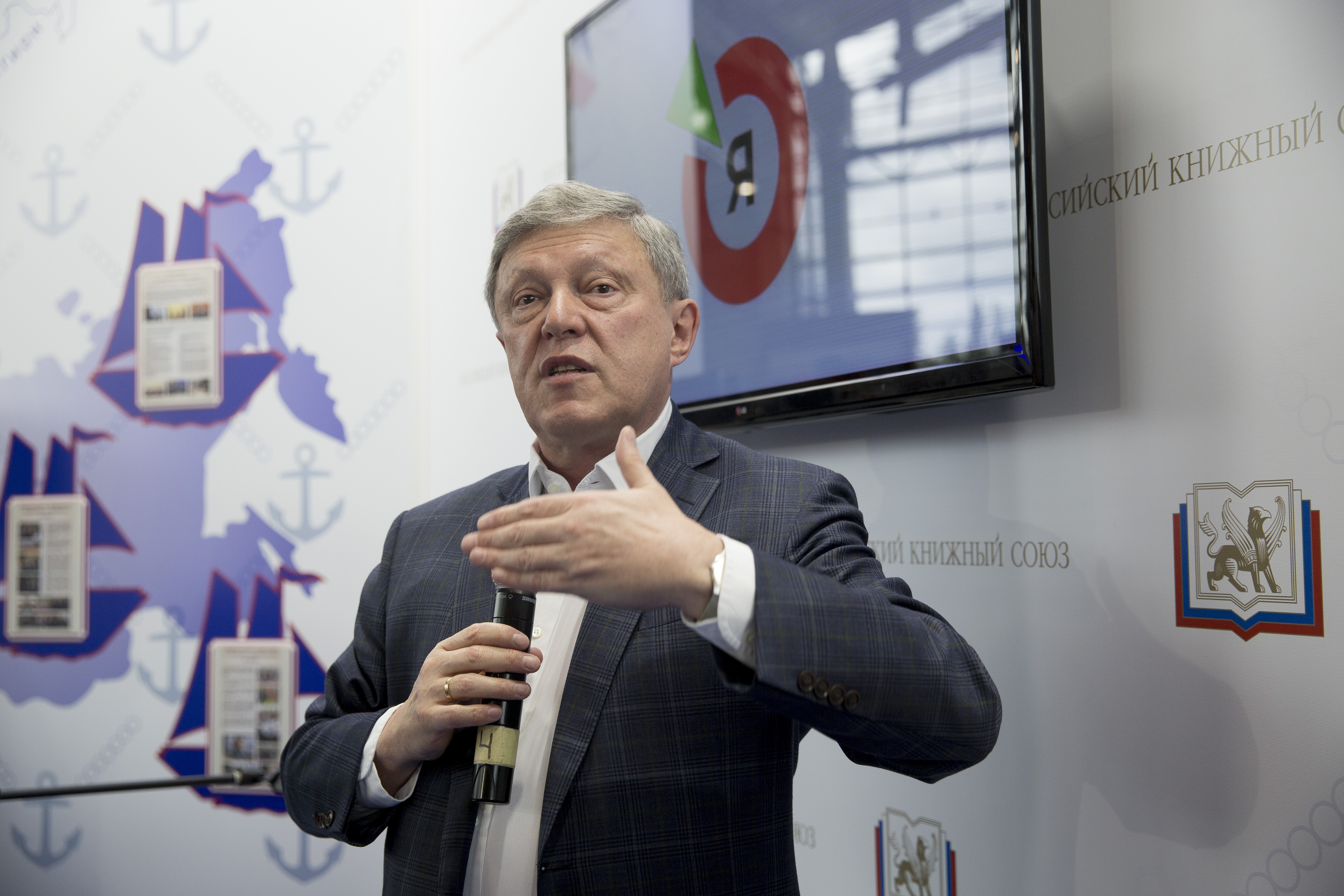В статье анализируются новые, появившиеся в последнее время тенденции в глобальном развитии, проявлениями которых стали голосование за выход Великобритании из ЕС, исход президентских выборов 2016 г. в США, миграционный кризис в Европе и целый ряд других знаковых событий и явлений нашего времени. Автор развивает концепцию, разработанную им в книге «Realeconomik», и отмечает закономерность событий, потрясающих мир сегодня. В основе их, по его мнению, лежат факторы, набравшие силу в течение последней четверти века: рост глобального неравенства в самых различных его проявлениях, дезорганизация миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, изменения в сфере информационных и коммуникационных технологий и в функционировании мировой экономики в целом. Автор критически анализирует наметившуюся тенденцию политического разворота (again policy), стремления вернуться к прошлому мироустройству, ставшую спонтанной реакцией на острые вопросы современности. Он полагает, что ответственность глобальных и национальных элит, а также политических лидеров современного мира позволит предотвратить нарастание хаоса. Во второй части статьи автор дает лаконичный, но емкий анализ серьезных сдвигов в глобальной иерархии центров политического и экономического влияния. Он рассматривает масштабные перемены в мироустройстве, называемые по-разному: «смена лидерства», формирование «мультиполярного» (полицентричного) мира, «новая нормальность» в международных отношениях, – суть которых едина: модель глобального равновесия остается в прошлом. Особое беспокойство автора вызывает все более явное снижение роли Европы, которая утрачивает не только политико-экономическое, но и ценностное, идейное влияние, что чревато негативными последствиями для цивилизации, так или иначе основанной на идеалах европейского модерна. Тем не менее, автор высказывает и обосновывает сомнения в наличии в современном мире целостной альтернативной концепции, которая могла бы прийти им на смену, и видит потенциал преодоления глобального кризиса в качественно новом осмыслении сложившейся ситуации на основе европейских ценностей.
...Вдоль дороги все не так,
А в конце – подавно...
Владимир Высоцкий
Часть 1.
ВРЕМЯ ТРЕВОГ И ПЕРЕМЕН
В последнее время произошло много событий, серьезно изменивших самоощущение миллионов людей по всему миру, в первую очередь в экономически наиболее развитой его части, до сих пор объективно выступавшей в роли лидера мирового развития и во многом определявшей облик миропорядка.
Это, в частности, неожиданный для многих подъем антиглобалистских и традиционалистских настроений в развитых странах, в значительной степени определивший исход референдума о выходе из ЕС в Великобритании и президентских выборов в США. Этот подъем оказался сопряженным с изменением восприятия в мире процессов глобализации от больших надежд и оптимизма к преобладанию тревог, опасений и разного рода страхов.
Это также объективные изменения характера глобализации, которая приобрела более хаотичный, менее управляемый, а во многих случаях – и откровенно дезорганизующий, характер, когда стихийно возникающие потоки людей, капиталов и технологий не позволяют национальным правительствам держать под своим контролем на очень широких социальных пространствах ситуацию с занятостью, доходами, с господствующими ожиданиями и настроениями.
Это никем не предсказанный рост популярности на европейском политическом пространстве партий и движений, апеллирующих к чувству тревоги и страха перед будущим, к инстинктивному стремлению больших сегментов населения оградить себя от надвигающихся на них социальных и технологических перемен через обращение в прошлое, к испытанным инструментам национально-государственного регулирования.
Это ощущение непрочности существующего миропорядка, растущая вероятность его краха с неизвестными и непредсказуемыми последствиями. Это растущий страх перед неустранимыми международными конфликтами и войнами – террористическими, межгосударственными или гибридными, локальными и региональными, способными войти в фазу перманентной эскалации, вплоть до глобального ядерного противостояния.
Наконец, это разрушение привычной институциональной среды глобального информационного пространства, связанное с переизбытком каналов коммуникаций, трактовок и версий реальности, сломом иерархии социальных и медийных авторитетов.
В результате всех этих изменений у очень большого числа людей и многочисленных больших сообществ рушится не только устоявшийся образ жизни, но и прежняя система представлений о ее смысловом наполнении. Мир, окружающая реальность все чаще предстают чем-то непонятным, опасным, непредсказуемым, перестают укладываться в привычную логику. Эти страхи и опасения людей, в свою очередь, воспринимаются ответственными политиками всего мира как серьезный и побуждающий к действию вызов. Возможно, что в ближайшие десятилетия этот вызов будет осознан как главный для всего человечества, а поиск ответов на него станет основным содержанием политического поиска в предстоящие двадцать-тридцать лет.
Причины: почему будущее перестало казаться светлым
Ключевые особенности (структурные элементы) современного мира, являющиеся источником его опасностей и неопределенностей – как в глазах напуганных обывателей, так и в силу объективных причин – вполне поддаются выделению и описанию.
Они прямо или косвенно отражаются в массовом восприятии, разрушая в нем сложившуюся в предыдущие десятилетия картину мира и понимание логики его развития. Разрушение этой логики и стало причиной той растерянности и усиливающегося страха перед будущим, которые, по мнению автора, и лежат в основе процессов, ставших предметом настоящего исследования.
В первую очередь – это неравенство в самых различных его проявлениях в сочетании с фатальным ощущением его неотвратимого нарастания и непреодолимости, постепенно становящееся едва ли не символом наступающей новой эпохи – «новой нормальности».
Конечно, неравенство людей по их социальному и имущественному положению существовало испокон веков, временами сокращаясь, но оставаясь одной из доминирующих черт человеческого общежития в самых разных его форматах. И если вопрос о неравенстве оказался в центре дискуссий, то не потому, что раньше его было меньше, но потому, что сегодня даже надежды на его постепенное преодоление или хотя бы ослабление вступили в противоречие с реальностью последних полутора-двух десятилетий.
Мейнстримная мысль второй половины прошлого века явно или неявно исходила из того, что прогресс технологий, рост массового потребления, интернационализация экономической жизни, переросшая в комплексную глобализацию, делают излишним и постепенно смягчают вековое неравенство, а также крупные разрывы в уровне жизни, образования и характере участия в процессах социальной самоорганизации и политического управления, разъединяющие отдельных людей, общественные классы и группы, страны и группы стран. Сама идея глобализации в ее популярной версии предполагала постепенное выравнивание условий труда и жизни в самых различных частях мирового хозяйства и внутри общества за счет растущей свободы движения не только продуктов экономической деятельности, но и основных факторов производства – капитала, рабочей силы, применяемых технологий производства и предпринимательства. Ключевой силой, обеспечивающей необратимость этих процессов, считались транснациональные корпорации, преодолевающие сопротивление национальных правительств, склонных под давлением избирателей возводить барьеры на пути свободных международных обменов.

К концу ХХ в. этот тренд, казалось, стал доминирующим. Глобализация экономической и политической жизни подкреплялась наблюдаемым повсеместно триумфальным продвижением концепции естественных прав личности, подразумевающей расширение доступа всех слоев общества к образованию, экономическим возможностям и управлению обществом. Казалось, что мировое сообщество вышло на магистральный путь постепенного преодоления накопленных в прежние эпохи социальных противоречий. Было понятно, что этот процесс, особенно в глобальном измерении, будет непростым и исторически длительным, но правильность выбора направления движения в кругах интеллектуальной элиты западных стран не подвергалась сомнению. Факт общественного прогресса на базе универсальных ценностей – приоритета прав личности, обеспечения реального равенства возможностей и учета интересов меньшинств, требующих особого внимания для обеспечения такого равенства – многим, если не большинству, представлялся совершенно очевидным.
Но во второй декаде XXI в. новый виток технологического прогресса в сочетании с возросшей ролью юридически (и институционально) защищенной интеллектуальной собственности привел к возникновению принципиально нового неравенства – вытекающего уже не столько из традиционно неравномерного распределения накопленного богатства, сколько из господствующего положения в системе новой экономики. Соответственно, резко поменялись и оценки глобальных перспектив, господствующие в интеллектуальной среде[1]. Эту новую экономику называют по-разному, но главное – она базируется на интеллектуальном контенте, позволяющем не просто удовлетворять запросы потребителя, а искусственно формировать их, контролируя его поведение. Тем самым она фактически создает и новую элиту общества, поднимая ее над основной массой и обрекая эту массу на роль вспомогательного материала для производства контента новой экономики. Это отдельная и очень большая тема, разработке которой посвящено немало работ, но главное – еще впереди, поскольку процесс формирования «новой» экономики в качестве главного источника будущей прибыли находится еще в самом начале. Тем не менее уже сейчас есть все основания полагать (и тому уже есть реальные подтверждения), что тенденция к сглаживанию разрывов и сокращению неравенства во всем мире больше не наблюдается.
Этот относительно недавно проявившийся фактор действует не только в рамках национальных государств, где формируется и уходит в отрыв «новая» экономическая элита и – одновременно – начинают размываться экономические основания для роста образованного и включенного в производственный базис массового «среднего класса», так и в рамках мирового сообщества. В глобальном масштабе всегда существовавший разрыв между ядром мирового капитализма и его ближней и дальней периферией в новых условиях не только продолжает сохраняться, но и приобретает устойчивость. Различия в размерах добавленной стоимости на разных «этажах» глобальных производственных систем и цепочек перестают сокращаться и вновь начинают увеличиваться. А это означает, что разрыв между центром (или центрами) мирового хозяйства и его провинциями, старыми и новыми, в ближайшие десятилетия не только не «рассосется», но станет более выраженным. Все базовые условия жизни, включая ее продолжительность, возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи, профессионального образования и переобучения, качество доступных рабочих мест, степень социальной и правовой защищенности, личной безопасности и пр., в развитом мире и на периферии будут не сближаться, а, скорее, расходиться.
Этот растущий разрыв, возможно, определит содержание главного геополитического конфликта XXI в., в котором разлом будет проходить не по идеологическим линиям, а по степени включенности той или иной общности или страны в систему нового неравенства в рамках мирового хозяйства[2].
Развитые страны, в которых концентрируются штаб-квартиры крупнейших транснациональных корпораций, центры управления и накопления интеллектуальных активов, юридически и институционально защищенные ядра их инновационной активности и реализации прибыли, получают новую «фору» для сохранения своего привилегированного положения. Их центральное, «ядерное» положение в глобальной экономической системе становится неоспоримым, а возможности получать за счет этого положения колоссальные доходы, значительная часть которых имеет монопольно-рентный характер, позволяет им с легкостью концентрировать на своей территории наиболее качественные и перспективные ресурсы, тем самым закрепляя свое центральное положение. В отличие от индустриальной эпохи, когда природные и организационные преимущества давали странам периферии реальный шанс обеспечить себе возможность «догоняющего» развития (что в той или иной форме продемонстрировали страны Восточной Азии – Япония, Южная Корея, отчасти Китай), нынешнее лидерство «новой» экономики практически обнуляет шансы на успех «догоняющих» стратегий.
Соответственно, отставшие страны, лишенные возможности «развиваться догоняя», все чаще демонстрируют обиду, агрессию, архаику политического и общественного сознания. Ощущение значительной, наиболее активной частью их населения отсутствия коллективной и личной перспективы формирует среди молодежи этих стран жизненную стратегию переселения в более богатые страны. Энергия этих людей формирует мощную волну международной миграции, сопровождающуюся двумя мощными сопутствующими явлениями. Это, во-первых, стихийный либо организованный (вплоть до государственного) терроризм как одно из ведущих современных политических направлений. И во-вторых, как его оборотная сторона, изоляционистский популизм в развитых странах, строительство ими стен – в прямом и переносном смысле[3].
Это придает совершенно новое качество (а возможно, и смысл) процессам глобализации. Из средства сглаживания разрывов и уменьшения неравенства глобализация превращается в инструмент построения новой иерархии, установления более сильными и богатыми игроками таких правил экономической и политической игры, которые более бедным и слабым представляются несправедливыми, поскольку лишают их относительно равных возможностей, дающих шанс подтянуться к глобальной «верхушке».
Эти правила, в частности, предполагают жесткие требования поддержания открытости внутренних рынков для внешней конкуренции, защиты интересов владельцев интеллектуальной собственности, блокирования возможностей правительства устанавливать дифференцированные условия для различных субъектов экономической деятельности путем утверждения примата условий международных соглашений относительно полномочий национальных правительств. В конечном счете, продвижение этих правил ориентировано на закрепление в международной практике некого свода универсальных принципов («глобальных стандартов»), конкретных норм, процедур и протоколов действий при игнорировании национальных особенностей и их возможных социально-экономических последствий для отдельных стран и территорий.
С другой стороны, ощущение уязвимости положения, в котором в условиях такой глобализации оказываются представители многих национальных элит в развивающемся мире, толкает их к насаждению «оборонных форм» авторитаризма и архаичных форм общественного сознания внутри их собственных стран, что закрепляет и усугубляет разрыв между «глобальным городом» и «глобальной деревней».
Одновременно происходит и еще один важный процесс – разрушение сложившегося после второй мировой войны миропорядка, основанного на длительном сохранении относительно устойчивого равновесия сил, имевших различное представление о должных принципах устройства экономики и общества. Именно это равновесие, лежавшее в основе растянувшейся на десятилетия «холодной войны», обеспечивало связанность групп государств в устойчивые блоки и объединения, дисциплинировало их поведение и стабилизировало внутреннее устройство, тем самым обеспечивая определенную меру стабильности в международных отношениях. Сегодня это «холодное равновесие» сменилось относительно подвижным геополитическим соперничеством большого количества игроков, каждый из которых хотел бы играть по своим собственным правилам. Да и концепция глобального лидерства, долгое время являвшаяся основой внешнеполитической стратегии США, сегодня de facto теряет былое значение «руководящей и направляющей» в американской внешней политике.
Этим обстоятельством обусловлено обилие конфликтных ситуаций, для разрешения которых нет готовых лекал, нет простых способов подготовки «дорожных карт», да и инструментов ограничения действий их участников стало гораздо меньше. Как ни парадоксально, но мир становится гораздо более опасным, чем в годы холодной войны. И это, бесспорно, уже сказывается и на настроении избирателей в развитых странах, и на поведении политических лидеров, которые все чаще не только не могут найти ответы на новые вызовы, но даже не видят и не понимают их.
Большое значение имеют и последствия четвертой промышленной революции, которая в последние десятилетия принципиально отличается от того технического прогресса, который мы знали. Если в прошлом веке технические достижения в первую очередь меняли способы взаимодействия человека с окружающей его природной средой, то сейчас объектом воздействия новейших технологий становится человеческое сознание, его характеристики, а также поведение людей и взаимодействие между ними.
Меняется не только источник информации, но само представление о том, что такое информация, каковы ее характер, сущность, взаимоотношения информационного поля и информационного потока с индивидуальным сознанием. Информационные технологии начинают сами определять содержание информационного потока [McLuhan 2001]. Информационная среда субъективизируется, становится не только инструментом получения контента, но и его создания, сама становится субъектом, участником глобальных процессов. «Интернет вещей», «облачные» и «туманные» технологии – это абсолютно новые явления. Цивилизационный прогресс и качественный рост сознания подменяются корыстным манипулированием, что ведёт к социальному и личностному регрессу. Происходит это прежде всего потому, что скорость качественных технических изменений в сфере информационных и коммуникационных технологий в последние четверть века все больше опережает возможности человека, не успевающего приспособиться, адаптироваться к новым условиям[4].
Надежды на то, что социальные сети установят в обществе горизонтальные связи и приведут к выходу на новый уровень интеграции социума, не оправдались. Напротив, сетевое общество – это во многом сугубо сегментированное общество, в котором царит своего рода «холодная гражданская война». Общество дополнительно атомизируется социальное взаимодействие и взаимопонимание ослабляются.
Что же касается контроля над членами общества, вплоть до контроля сознания, то здесь, напротив, открываются почти безграничные возможности, в частности, связанные с доступностью беспрецедентно большого объема данных о поведении и информационной активности граждан, а также почти неограниченного воздействия на их социальное и частное поведение[5].
Новые каналы взаимодействия экономики и сознания общества
Совокупность обозначенных выше перемен коренным образом меняет состояние сознания и характер отношений внутри общества, прежде всего в развитых странах. Главный фактор здесь, безусловно, – технологические изменения, оказывающие гораздо большее влияние на все сферы жизни (от экономики и политики до идеологии и культуры), чем это принято признавать.
В чем главное содержание этих изменений? Прежде всего в том, что ослабла и продолжает ослабевать связь производственных технологий с материальной экспансией человечества и составляющих его сообществ. Это особенно заметно сегодня, оглядываясь с высоты второго десятилетия нового века на прогнозы, делавшиеся 50-100 лет назад писателями и футурологами относительно современной нам эпохи. Экстраполируя на будущее опыт XIX – начала XX вв., магистральным направлением развития техники и технологий они видели преобразование человечеством окружающего материального мира, подчинение его своим желаниям и потребностям. Отсюда – предположения о грядущей экспансии человечества, об освоении им все новых пространств и природных ресурсов, о создании все новых и новых элементов материальной инфраструктуры, что, опять же, подразумевало растущие затраты соответствующих ресурсов и поиск все новых масштабных запасов и источников таковых.
На деле же развитие пошло несколько иным путем. Во-первых, большую и, главное, растущую часть своего потребления население богатеющих стран переключает на различного рода нематериальный культурный и интеллектуальный «контент», не требующий для своего производства гигантских материальных и энергетических затрат. Почему это происходит – это особый вопрос, требующий отдельного разговора, но это факт.
Во-вторых, прогресс материальных носителей этого контента пошел по пути миниатюризации и индивидуализации, что лишь усиливает наметившийся перелом прежних тенденций, снижая роль факторов, связанных с экстенсивным развитием.
В-третьих, снижение рождаемости и рост продолжительности жизни практически повсеместно привели к демографическим сдвигам – резкому замедлению роста численности населения и «старению» его возрастной структуры. Демографические изменения такого рода ведут к вынужденному изменению структуры производства и потребления. Вместо пространственной экспансии новая структура спроса толкает бизнес и, соответственно, определяемые им направления прогресса технологий в сторону удовлетворения индивидуальных желаний ограниченного по численности, более сосредоточенного на себе и своем образе жизни населения.
Магистральным направлением развития и практического применения новых технологий стала не внешняя экспансия сообществ, а совершенствование и расширение возможностей сбора, обработки, передачи и использования информации, что, с одной стороны, дало толчок и расширило возможности получения новых знаний и их применения в широком спектре областей, а с другой – предоставило бизнесу техническую возможность «замкнуть» экономический рост на работу с желаниями и стремлениями атомизированного индивидуального потребителя.
Эта тенденция получила подкрепление и с другой, во многом неожиданной стороны – со стороны прогресса научно подкрепленных технологий целенаправленной работы с индивидуальным и массовым сознанием. Послевоенные разработки соответствующих технологий, во многом опиравшиеся на идеологические установки, вытекавшие из получивших широкое признание работ Фридриха фон Хайека [Хайек 1992] и математика Джона Нэша [Nash 1951], как оказалось, могут с успехом применяться в бизнесе для формирования желаемых образцов потребительского поведения. Если ранее ключевой фигурой в крупной корпорации, добивавшейся лидирующих позиций на рынке, был талантливый инженер, то теперь рядом с ним, а иногда и над ним, встал коллективный рекламщик-маркетолог, обеспечивающий контроль над рынками с помощью исследований массового сознания и технологий воздействия на него. Это позволило даже промышленным компаниям кардинально снизить роль и удельный вес материальных затрат в совокупной стоимости их продукции и увеличить роль нематериальных активов в получении доходов (так наз. «софтизация»), не говоря уже о повсеместном росте доли сферы услуг в развитых экономиках. То есть объектом работы с потребителем является не банальное удовлетворение его реальных материальных потребностей, пусть даже искусственно раздутых, а инициирование у него чувства радости и комфорта от удовлетворения навязанных ему потребностей, которое достигается целенаправленной работой с его сознанием, поведением, рефлексами, его мозгом, что позволяет получать соотношение реально понесенных затрат и полученной выручки, которое и не снились пионерам индустриального капитализма.
Кроме того, смещение акцентов бизнес-стратегий в сторону контроля над потребительским поведением, конечно же, ослабляло конкуренцию в ряде ключевых сегментов экономики, формируя олигопольные конструкции, обеспечивая образующим эти конструкции корпорациям высокую реальную доходность их деятельности. Особенно если учесть, что значительная часть доходов не фиксируется как предпринимательская прибыль, а оформляется как доход владельцев интеллектуальных активов, услуги которых оплачиваются с включением соответствующих выплат в издержки. Это явилось мощной основой для формирования нового типа неравенства, о котором шла речь выше, а также слоя так наз. новых создателей богатства (new wealth-builders), нарушающих привычные каноны его накопления и восхождения к вершине общественной пирамиды.

Обратная связь: как новые реалии повлияли на общественное сознание
В результате общественное сознание пережило целый ряд шоков. Действие традиционных «направляющих конструкций» постепенно, но неуклонно ослаблялось. Общество XIX и большей части XX вв. было преимущественно классовым, в котором образ жизни, жизненные цели и ориентиры, разнообразные социальные ограничители, включая морально-психологические установки, в преобладающей степени определялись принадлежностью индивида к определенной социальной группе и классу.
К концу века роль классового фактора и классового сознания резко ослабла, что наглядно отразила трансформация партийно-политической системы в странах Запада, которая в качестве средства обеспечения электоральной базы в значительной степени переориентировалась с классовых интересов на вопросы индивидуальной идентичности, этничности, культурных и поведенческих установок, половозрастных особенностей сознания и т.д. На смену традиционным основаниям общественного сознания, морали и поведения неумолимо шло явление, которые можно назвать постмодернистским сознанием, – основанное на чрезвычайной подвижности общественной повестки, гибкости и изменчивости оценок, в том числе нравственных, крушении иерархии общественных авторитетов и механизмов их воздействия на людей, тотальной ревизии системы ценностей, формировавшейся на протяжении ХХ в., и подчинения трактовки ценностей задачам текущего момента. На место привычных канонов, связанных с этими ценностями, пришла постмодернистская карнавальная политика – публичные шоу вместо решения проблем, переключение внимания публики с одних далеких от насущных потребностей проблем на другие, поощрение «цивилизации комфорта» (жизнь в стиле «лайт»).
Прежняя система самоконтроля общественных процессов при помощи устоявшейся публичной морали и трактующих ее авторитетов стала терять не только эффективность, но и смысл. В полной мере и, полагаю, впервые этот факт оказался в фокусе общественного внимания в связи с финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., именовавшимся также Великой рецессией. Однако крах прежних поведенческих и нравственных ориентиров начал проявляться задолго до этого кризиса, послужив одним из важнейших его оснований. Об этом подробнее было сказано в моей книге «Realeconomik» [Yavlinsky 2011] (на русском языке - «Рецессия капитализма» [Явлинский 2014]).
Процессы глобализации в последние десятилетия также, безусловно, оказали огромное воздействие на общественное сознание. Если первоначально речь шла просто о снятии барьеров на пути движения товаров и капиталов, трансграничной экспансии крупнейших мировых корпораций и интернационализации хозяйственной жизни, то по мере развития этих процессов оказалось, что они имеют собственную логику, результаты действия которой невозможно ни предотвратить, ни поставить под жесткий контроль.
Главный пример таких «незапланированных» результатов глобализации – это массовая неконтролируемая миграция из стран и регионов с худшими условиями жизни в центры мировой экономики – Западную Европу и США. На этом фоне возник мультикультурализм как вынужденный ответ (или, скорее, поиск ответа) на порождаемое миграцией социальное напряжение в этих центрах. Новое измерение приобрела и проблема терроризма, которая окрасилась в этнические и религиозные тона.
Образованная и интересующаяся глобальными вопросами часть населения развитых стран вдруг обнаружила, что уход с мировой арены коммунизма, несмотря на глобализацию, вовсе не означает торжество в мировом масштабе казавшейся ей безальтернативной модели либерального капитализма. Оказалось, что в глобализированном мире у этой модели есть серьезные конкуренты – в частности, в Азии, но не только. Одной из отличительных черт эпохи «нулевых» стало оживленное обсуждение возможного будущего стран так наз. нелиберального капитализма. И если Россия на Западе воспринималась как аргумент против идеи «конца истории» главным образом вследствие ее огромного военного, в первую очередь ракетно-ядерного потенциала, то нынешний абсолютно нелиберальный Китай оказался мощнейшей экономической силой, способной в будущем претендовать на гегемонию на обширных пространствах.
Особенности общественно-политического устройства Китая, прежде всего, ограничение свободы личности, станут едва ли преодолимым препятствием для его глобального лидерства. Тем не менее, как наиболее мощный, но далеко не единственный представитель модели «нелиберального капитализма», Китай уже оказал серьезное влияние на состояние общественного сознания в странах «ядра» мирового капитализма.
Общественные настроения в развитых странах в последние полтора-два десятилетия изменились очень существенным образом. Исчезла массовая уверенность в том, что политики ведут западное общество по правильному пути, в том, что их почти безграничная поддержка усилий по либерализации международного движения товаров, капиталов, людей и идей гарантирует устойчивое экономическое развитие и более или менее справедливое распределение его благ. Психологический протест против роста нового неравенства постоянно рос на фоне явной стагнации доходов традиционного среднего класса и «синих воротничков».
Несмотря на заметную «атомизацию» обществ из-за ослабления горизонтальных связей и традиционных институтов, объединяющих людей по признаку их социально-экономического положения и профессии, общее брожение в умах и ощущение несправедливости происходящих перемен нарастало. Также нарастало и стремление, часто подспудное, попытаться остановить эти перемены, вернуться в прошлое, представляющееся гораздо более понятным, комфортным и справедливым.
Одновременно рос протест против старых и новых элит, которые не только выигрывали от происходящих перемен – как тех, что связаны с глобализацией, так и тех, которые можно условно определить как пришествие политического постмодерна – но и активно пропагандировали их, представляя как новые безусловные ценности и в какой-то степени сакрализируя их.
В чем нашли проявление эти растущие настроения – известно. Это как раз то, о чем было сказано вначале. В этом, собственно, и лежат истоки якобы неожиданных исходов знаковых голосований последних лет – референдума о Brexit, президентских выборов в США, равно как и роста поддержки в Европе сил, представляющих себя как консервативную правую альтернативу.
Временные отклонения или долгосрочный тренд?
В последние годы наметился поворот в общественном сознании, который можно условно назвать поворотом от будущего к прошлому. Для себя я обозначаю его мемом again policy в знак многочисленных призывов, отражающих этот политический разворот, стремление политиков «вернуть» якобы имевшееся в прошлом величие, гармонию, идентичность и т.д.[6] Вопрос о том, насколько серьезен и, главное, насколько долгосрочен наметившийся поворот – один из самых злободневных.
На первый и, по существу, поверхностный взгляд все вышеописанное представляется краткосрочной реакцией на проблемы и трудности, «всплывшие» в последнее десятилетие и не завоевавшие должного внимания современных политико-экономических элит в странах Запада. Действительно, именно в последние десять лет на объединенную Европу стали сильно давить и неурегулированные бюджетные взаимоотношения между членами ЕС, и нарастающий поток мигрантов из стран глобального Юга, и впервые за последние тридцать лет ставшая более чем реальной угроза масштабного вооруженного конфликта на границах с Россией. Для США последние десять лет стали шоком в результате экономического кризиса 2008 г., обнажившего застарелые проблемы в финансовом секторе и в сознании деловой элиты страны, а также ощущения невозможности на своих условиях урегулировать острые конфликты в зарубежных зонах американских интересов. Азиатские страны столкнулись с несущим новую неопределенность экономическим и военным возвышением Китая, а российская элита, опираясь на беспрецедентно высокие нефтяные доходы, отправилась искать свое новое место, решительно отказываясь от системы координат в мировой политике, которую утвердил в послевоенный период коллективный Запад.
Однако трансформация общественного сознания назревала и, более того, начала происходить задолго до последних событий. Ее предпосылки, в частности, – это процессы, связанные с изменением технологической базы экономики и общества, с изменением характера и направленности работы на рынках верхушки крупного бизнеса и его лидеров, с соответствующими подвижками в потребительском поведении и возможностями манипулирования последним. Все это – исключительно долгосрочные сдвиги в современном капитализме, которые не связаны ни с конкретной фазой цикла конъюнктуры, ни с политическими пертурбациями, ни с какими-либо случайными или единичными событиями. Они – часть фундаментальных исторических процессов, начало которых можно проследить еще в 1970-1980-х годах, а в отдельных случаях – даже раньше.
В особенности это касается идеологической сферы. Это апология индивидуализма и индивидуальных желаний; примат потребительского сознания над коллективным в качестве предмета социальной инженерии; фактический вывод нравственных ценностей из числа факторов, определяющих практическую политику, в пространство идеологического прикрытия и демагогии. Это тенденция к технологизации экономического анализа; стремление представить любые процессы в сфере экономики и бизнеса в качестве набора технологически детерминированных корреляций между теми или иными переменными величинами и факторами. Это сведение содержания экономической политики к оптимизации динамики агрегированных показателей роста безотносительно их связи с долгосрочными социальными последствиями и их оценкой теми или иными группами в обществе. Все это получало широкое распространение задолго до кризиса 2008 г. и последовавших за ним событий. Более того, здесь прослеживается связь с мировоззренческими постулатами, воздействие которых на общественное сознание стало заметным еще в разгар холодной войны и во многом стимулировалось ею[7].
Но и в области технологий нынешний скачок к активному смещению фокуса конкуренции в сторону влияния на потребительское сознание в его самых простых и нерациональных формах, работы с бессознательным природным началом или со столь же бессознательными предрассудками был подготовлен характером взаимодействия производства и сферы исследований в течение всех последних десятилетий прошлого века. Современные технологии («модерн») соединились с политико-идеологическим «постмодерном», главная черта которого – отказ от подчинения политики жестким принципам нормативного характера, и породили ту структуру общественного сознания, которая сегодня превращается в доминирующую. В основе ее – отрыв новых элит от остального общества, которое чувствует себя преданным и брошенным на произвол истории. Элиты же перестают ощущать себя ответственными за состояние общества в целом, превращаясь в класс для себя и воспроизводя худшие черты олигархического сознания (снобизм, ощущение себя изолированной кастой, уверенность в закономерности и вечности своего особого места в обществе и экономике).
Этот разрыв усугубляется тем обстоятельством, что внутри правящего слоя прежние разделительные линии идеологических различий и конфликтов (либерализм vs дирижизм в экономической политике, традиционализм vs реформаторство и естественное неравенство vs эгалитаризм в общественной практике) постепенно утрачивали прежнюю значимость, уступая место общему отчуждению политико-экономической элиты от остальной части общества[8].
Инерция жизни внутренне структурированного общества продолжает поддерживать его в связанном состоянии, предотвращая открытый кризис государственности. Однако деструктивные всплески отрицательной энергии, периодически выходят на поверхность, проявляясь в неожиданных результатах голосований (если речь идет об электоральных демократиях) или мощной уличной активности, которая порой используется альтернативными элитами для насильственного отстранения от власти узурпирующих ее групп, что характерно для стран с авторитарной формой правления.

Часть 2.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И КРИЗИСНАЯ СМЕНА ЛИДЕРСТВА
Особенность нынешнего мира – разрушение прежних моделей миропорядка, которые обеспечивали некоторую стабильность и предсказуемость в международных отношениях все последние десятилетия. Начались длительные и широкомасштабные перемены в мироустройстве. Их называют по-разному: «смена лидерства», формирование «мультиполярного» (полицентричного) мира, «новая нормальность» в международных отношениях и пр.
Выражают они, в сущности, один и тот же процесс – уход в прошлое модели глобального равновесия. В рамках этого равновесия экономические и технологические лидеры западного мира, имея более или менее единое представление об институтах и принципах общественного устройства, которые они считали естественными и желаемыми, тем не менее не полагали возможным ставить их под угрозу, проводить рискованные операции по силовому экспорту этих институтов во все остальные части мира.
Такое понимание сложного глобального баланса сил, с одной стороны, удерживало мир от бесконтрольного расползания конфликтов, а с другой – обеспечивало связанность условного Запада рамками устойчивого блока, который частично был оформлен как военно-политический союз, но на деле имел более широкий состав и не всегда формализованные внутренние «скрепы». Другими словами, это сознание вносило в поведение «западного блока» определенную меру вынужденной солидарности, но и, одновременно, реализма и ответственности. Именно это лежало в основе миропорядка времен зрелого этапа холодной войны. Более того, оно продолжало работать и в первые годы после ее формального окончания. Однако уже в конце 1990-х и в 2000-е годы ситуация начала меняться сразу в нескольких направлениях.
Во-первых, ошибочная интерпретация Западом причин и ожидаемых последствий окончания холодной войны резко снизила качество принимаемых решений и породила в головах западных, и в первую очередь американских, политиков и лидеров общественного мнения эйфорию, побудившую их отбросить осторожность и рациональность и начать форсированную экспансию западных институтов и практик в восточном направлении.
Фактическое использование при этом мер насилия (при безусловном наличии других, в частности, дипломатических) определялось не столько гуманитарными, сколько узкими, краткосрочными, конъюнктурными соображениями, зародив немалые сомнения в приверженности Запада провозглашаемым ценностям. Стремительная интеграция в евроатлантические структуры стран бывшего «восточного блока» и постсоветских государств Балтии породила у Запада уверенность в том, что «переваривание» в западном котле и остального постсоветского пространства произойдет относительно бесконфликтно.
Во-вторых, Вашингтону и тем, кто разделяет его подходы в Европе, авторитарные режимы на Ближнем и Среднем Востоке стали представляться в наше время своего рода историческим недоразумением, насильственное свержение которых сгладило бы придавленные ими острые социальные и религиозно-этнические трения, а не вскрыло бы их в полной степени. Отсюда концепция необходимости поддержки «демократических движений», на роль которых были назначены организации сомнительного свойства или не обладавшие реальным влиянием группки прозападных интеллектуалов. Отсюда же концепция так наз. «гуманитарных интервенций», на основе которой те же США брали на себя ответственность за политическое переустройство сложных и непрозрачных для постороннего взгляда восточных обществ, т.е. за процесс, над которым американские кураторы даже теоретически не могли установить сколько-нибудь эффективный контроль.
В-третьих, не менее легкомысленным и поверхностным оказалось отношение США к своему бывшему главному геополитическому сопернику – России. Заведомо неадекватные ожидания успеха реформ и примерного ученичества российской элиты (на фоне принципиально контрпродуктивных для российской реальности и часто жестко и безапелляционно навязываемых реформаторских рецептов) довольно быстро, после первых неизбежных неудач, сменились снисходительным отношением к расцветавшим в ее рядах коррупции и конформизму, ее откровенному безразличию к проблемам «рядовых» граждан и маргинализации чрезвычайно важных для развития страны социальных групп и категорий населения.
А следующим шагом в этом направлении стал фактический отказ от содержательного диалога с различными группами внутри российского политического класса и подмена его удобными, но недальновидными сделками с правящей группировкой. В этом отношении события 2014 г. были отнюдь не неожиданным сюрпризом и не признаком «странного разрыва с реальностью» российского руководства, на которое первое время пытались списать разразившийся кризис в отношениях России и Запада, а следствие многолетней (с 1992 г.!) недальновидной, самоуверенной и в сущности циничной политики мелких сделок между западными лидерами и российской властью без решения связанных с Россией стратегических проблем.
В-четвертых, лишившийся прежнего «драйва» Запад резко ослабил внимание к социально-экономическим проблемам, прежде всего к проблеме обеспечения возможно большей социальной однородности и солидарности общества. Отчасти это было связано, конечно, с ослаблением напряженности времен холодной войны, но еще в большей степени – с отрицанием самой необходимости скреплять общество межгрупповой солидарностью, общими (надличностными) целями и связанной с ними общественной моралью[9].
Вместо этого верх взяла внешняя экспансия международных бюрократических институтов, прекрасно уживавшаяся и даже «гармонично» сочетавшаяся с видением общества как совокупности разрозненных конкурирующих индивидов. Ничем иным, например, нельзя объяснить тот факт, что в качестве главных успехов ЕС широкой публике представлялись не углубление интеграции европейских обществ между собой и внутри каждого из них, а механическое расширение членства и разрастание самих бюрократических институтов через увеличение зоны их ответственности. Понятно, что такое форсированное расширение характеризовалось снижением требований к новым субъектам, которое вело к появлению дополнительных проблемных зон и ухудшению качества работы общих институтов. Да и национальные институты неизбежно снижали планку требований, уступая давлению бюрократических лобби, де факто выравнивавших стандарты по уровню наименьшего общего знаменателя.
В этом смысле и «долговой» кризис начала 2010-х годов, и неспособность своевременно решить проблемы, связанные с новой волной массовой иммиграции, и нарастание напряженности в европейско-турецких отношениях, и переход на качественно иной уровень ситуации конфликта с Россией в 2014 г. – все это так или иначе стало следствием стратегии быстрого количественного роста зоны патронажа Евросоюза вне зависимости от его возможностей в текущей ситуации. А сама эта стратегия явилась неизбежным следствием бюрократизации ЕС. Именно наднациональная бюрократия союза в условиях отсутствия политического контроля над ней получила возможность навязывать европейской политике публичную повестку и собственные узкокорыстные интересы в виде увеличения сферы своей ответственности, рамок активности и объемов подконтрольных финансовых потоков.
А оборотной стороной этого явления стало недостаточное внимание к социально-экономическому и моральному самочувствию широких слоев населения исторического ядра ЕС, разочарование последних в деятельности государственных институтов, которые в значительной степени «отрабатывали» повестку, часто абсурдно постмодернистскую, чуждую интересам «ядерной» части населения Евросоюза. И именно это сыграло немалую роль в том, что морально-политическое лидерство Европы, обеспечивавшее ей, в том числе, роль полноценного и влиятельного партнера в рамках союза с США, начало утрачиваться.
В-пятых, в отношениях между США и Европой усилились взаимные недовольство и претензии, проявившиеся в откровенной форме после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа. Европа оказалась неприятно удивлена тем, что ее собственная повестка дня – адаптация к возросшему потоку мигрантов, защита меньшинств, скорейшее завершение переговоров с США о взаимной либерализации торговли и инвестиций; разрешение в той или иной форме кризиса отношений вокруг Украины и др. – кажется Дональду Трампу (да и еще многим в Америке) неактуальной или надуманной[10]. С другой стороны, в США растет недовольство тем, что в решении тех задач, которые США считают глобальными с точки зрения «западного» мира (в частности, сохранение в мире военно-политического доминирования США и их союзников, поддержание геополитического статус-кво в Азии, предотвращение формирования антизападных союзов и коалиций) вклад Европы минимален либо отсутствует вообще.
Наконец, и это, пожалуй, самое главное, концепция глобального лидерства, после распада СССР долгое время лежавшая в основе внешней политики США, явно утрачивает свою прежнюю функцию «руководящей и направляющей» силы. Конечно, разговоры о грядущем неоизоляционизме Соединенных Штатов, порожденные специфическими тирадами Трампа по поводу его будущей внешней политики, оказались – пока по крайней мере – нереалистичными, и военно-политическое присутствие США в мире вряд ли сколько-нибудь существенно уменьшится. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что Америке придется смириться с растущим альтернативным центром силы в лице Китая, который все более осознает свои новые возможности и намерен реализовывать их в полной мере.
Сегодня Китай уже не просто вторая по величине валового продукта экономика мира, имеющая некоторые перспективы стать первой, но и центр военной силы, способный мобилизовать достаточные материальные и политико-психологические ресурсы, чтобы обеспечить себе доминирующее положение по всему периметру собственных границ и в обширных акваториях Тихого и Индийского океанов. Более того, КНР все настойчивей примеряет на себя роль глобального игрока, несогласного с концепцией «глобальных стандартов» по версии Запада, которая предполагает взять за их основу нормы и принципы, уже утвердившиеся в американской и европейской практике. Воспользовавшись отказом США ратифицировать Соглашение о транстихоокеанском партнерстве, согласование которого считалось наиболее продвинутым рубежом на пути к закреплению западноцентричной системы принципов хозяйственной и торгово-инвестиционной деятельности в качестве глобальной модели, Китай обозначил претензии на роль как минимум полноправного и полноценного участника, а как максимум – одного из двух лидеров процесса установления мировых правил.
Конечно, перспектива глобального политического и экономического лидерства Китая, по крайней мере в его нынешнем виде, является еще пока призрачной. Его политическое устройство и критически значимые ограничения свободы личности и творчества слишком серьезны, чтобы представить его в роли доминирующего международного игрока, законодателя правил и регулятора мировой экономики. Тем не менее, вероятность перехода к Китаю роли гегемона на тихоокеанском пространстве представляется далеко не нулевой, что создает почву для серьезных дискуссий о таком сценарии.
А главное, в силу своих особенностей и растущей силы Китай способен претендовать на роль политической и идеологической альтернативы «западному миру» в виде модели так наз. нелиберального капитализма. Китай намерен доказать миру, что авторитарная модель, не предполагающая свободы политической и идеологической конкуренции, вкупе с энергичным участием государства во внутрихозяйственной и внешнеэкономической активности могут быть не только временным инструментом «догоняющего развития» и форсированной капиталистической модернизации, но и полноценной долгосрочной моделью, альтернативной классической[11].
Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько США смогут сопротивляться такому сценарию. Пока складывается впечатление, что нынешней американской администрации такое развитие событий кажется неприемлемым, но в любом случае будущее скрывает немало вызовов, и нет ни малейшей уверенности в том, что американская элита сможет вовремя найти на них своевременные и адекватные ответы.
Закрепление на длительную историческую перспективу нынешней китайской модели капитализма в качестве магистрального пути его развития вообще и во Втором мире, мире «развивающихся стран», в частности, означало бы огромный цивилизационный перелом в истории человечества, превосходящий по своему значению многочисленные случаи перехода лидерства, имевшие место в европейской и евроатлантической истории[12]. Это особенно очевидно на фоне возможного дальнейшего ослабления Европы в качестве ядра мирового капитализма (а значит, и утраты, исключения ее культурообразующего значения). Это был бы первый случай глобальной победы новой, иной, неевропейской культуры над моделью европейского модерна, до сих пор являвшейся, можно без преувеличения сказать, основой существующего мирового мейнстрима, связывающего качественное экономическое развитие в индустриальную, и тем более, в постиндустриальную эпоху со свободой творчества, свободой личности, ее высокой креативностью.

Лично я убежден, что любые попытки искать альтернативу этой модели бессмысленны – такая смена в мировом лидерстве встала на повестку дня не потому, что готов новый лидер, а потому, что действующий теряет позиции. Назревает смена лидерства, а готовности у США уходить со сцены нет, как нет и объективных возможностей реально принять это лидерство у Китая – вследствие чрезвычайной отсталости его социально-политической модели. Это опасная кризисная ситуация.
Есть, на мой взгляд, и объективные обстоятельства, которые обессмысливают поиск альтернативы европейской цивилизационной модели. Во-первых, то, что пытаются противопоставить Европе, «европейскому пути», модерну, цивилизации, всему тому, что было центром и локомотивом движения мира вперед сотни лет – это не равновеликая альтернатива, имеющая свою перспективу цивилизационного развития, отличную от европейской, а искаженная, гибридизированная (с чем-то скрещенная), мифологизированная реальность. И особенно это видно на примере России.
Европа прошла длинный и сложный путь, сталкивалась с проблемами, с которыми сейчас сталкивается весь мир и, самое важное, находила пути решения этих проблем. Ценностные ориентиры и институты безопасности и развития, созданные после Второй мировой войны, главный из которых – Евроcоюз – это не случайность, не аберрация, а результат поисков, многовекового накопления опыта. Это – ключ к будущему, выбросив который человечество окажется лишенным механизмов решения глобальных проблем.
В таком случае открывается путь к повторению кошмаров и трагедий XX в., а в конечном счете – к новому хаосу. Если мир не будет учиться на уроках Европы, не будет использовать выстраданные на этом пути достижения и найденные решения – мы действительно обречены на повторение.
Во-вторых, в нынешнем уменьшении роли Европы, ее «отставании» очень большую роль сыграл личностный фактор, а не объективные обстоятельства непреодолимой силы.
Вопрос о конце стратегии, который вместо «конца истории» произошел после крушения Берлинской стены и коммунистической системы мы обсуждаем достаточно давно. Еще десять лет назад мы писали: «Перед западноевропейскими политиками и интеллектуалами встал вызов – разработать прочную новую парадигму поиска ответов на политические и экономические вопросы исторической значимости. Была ли эта цель достигнута? К сожалению, мы видим, что даже относительно адекватные ответы являются лишь элементом более важных вопросов» [Yavlinsky, Kogan-Yasny 2007: 36].
В условиях, когда стратегия расширения ЕС исчерпала себя, не дав требуемых результатов, остро ощущается необходимость выработки новой парадигмы его развития. Собственно, все элементы актуальной повестки дня современного Евросоюза, названные выше: рост популярности изоляционизма и национал-популизма, превращение миграции в серьезнейшую проблему, Brexit – все это следствие отсутствия продуманной стратегии. Можно даже сказать, неизбежное следствие.
В-третьих, значительная часть нынешнего европейского кризиса связана с тем, что после крушения СССР Европа не смогла удовлетворительным образом выстроить свои отношения с Россией. Фактически она просто потеряла Россию, так и не найдя с ней общего языка. В итоге Россия, отправилась по пути, которого нет (и обратимость которого все менее очевидна), а немалые возможности так и остались нереализованными и в экономическом развитии, и в плане государственного строительства. Но и Европа тем самым упустила важнейший исторический шанс: если бы 25 лет назад она сделала продуманные шаги по постепенной, поэтапной, продуманной и осторожной интеграции России и других постсоветских государств в единое европейское пространство, то большей части негатива, от которого страдает Евросоюз, можно было бы избежать. Более того, в перспективе объединенная Европа могла бы стать центром экономической и политической мощи, не уступающим США и Китаю, что в свою очередь способно кардинально изменить конфигурацию цивилизационного развития.
В реальности, однако, ситуация стала раскручиваться по иному сценарию, и нам предстоит пережить все последствия принятых политиками решений.

Вместо эпилога
Подробный разговор о причинах всего того, что описано в этой статье - отдельная обширная тема. Отчасти само описание и добросовестный непредвзятый анализ происходящего содержат в себе немалую долю объяснения того, как сложилась эта реальность. И все же, подводя итоги, я постараюсь очень сжато, предельно коротко сформулировать некоторые основные блоки причин приведших к нынешнему положению дел в мире.
1. Часть комплекса причинно-следственных связей, приведших к тому, с чем мы имеем дело сейчас, я подробно разбирал в моей работе посвящённой рецессии капитализма – анализу особенностей современной мировой экономики и фундаментальных причин кризиса 2008 г. [Yavlinsky 2011, Явлинский 2014]. Сложившуюся в последние десятилетия экономическую систему я назвал по аналогии с Realpolitik - системой «Realeconomik». Суть её в том, что это специфическая форма современного капитализма, искажающая даже принципы общества потребления, освобождающая бизнес от кажущихся излишними моральных ограничений и от ответственности перед обществом, сводящая ценностную сферу и целеполагание исключительно к извлечению как можно большей прибыли за счёт финансово-экономических пузырей и виртуальных видов деятельности мало связанных с реальными потребностями людей.
Сам процесс исторического формирования современной системы “Realeconomik” показывает и отчасти объясняет как современное западное общество подошло к черте у которой находится сейчас.[13]
Речь о том, что в мировой политике в конце ХХ века появилось что-то, чего не было с начала европейского нового времени – идея демократии была в значительной мере вытеснена упрощенной экономической моделью поведения людей. И в ходе этих перемен начался отход от политической системы которая работает на основе представительства, диалога и компромиссов между различными группами населения и идеологическими подходами. «Экономическая демократия», базирующаяся на финансовой и банковской системе, начала трактоваться как неоспоримая, которую нужно принимать как данность.
Система «Realeconomik» начала складываться на переломе между экономическим ростом 20-х гг. и Великой депрессией Именно тогда в целях манипулирования обществом появилась и стала развиваться практика целенаправленного массового формирования искусственных потребностей и их удовлетворения и на этой основе – идея приоритета экономики над демократией (the economy is superior to democracy).
После окончания Второй мировой и начала Холодной войны, когда влияние и значение СССР и коммунистической идеологии стали угрожающими для Запада, разработку моделей управления человеческим поведением активно продолжили.
Теория Нэша, за которую он получил Нобелевскую премию, доказывавшая, что общество, основанное на крайнем индивидуализме, эгоизме и личной корысти, может поддерживать стабильность и развиваться даже более динамично, чем планово организованный социум, приобрела огромное влияние на политику, а затем и на экономику.
На этой основе появилась ставшая чрезвычайно влиятельной в политике и экономике второй половины XX века философская идеологема, сутью которой стало противопоставление набиравшей популярность коллективистской социалистической и коммунистической идеологии, модели социального равновесия, основанной на человеческом эгоизме и стремлении к единоличной выгоде, иначе говоря, системы сознательно культивируемого индивидуализма и узкого прагматизма.
Равновесие Нэша стало подходящей научной базой для подхода, к которому призывал австрийский учёный Фридрих Август фон Хайек, преподававший в Чикагском университете. Союзником теории Нэша оказался и один из самых видных либеральных мыслителей ХХ столетия - Исайя Берлин, обосновавший идею «негативной свободы».
В итоге экспериментальная модель, разработанная Нэшем в экстремальных условиях холодной войны в целях идеологической борьбы с Советским Союзом, носившая окказиональный, прикладной характер стала восприниматься всё большим числом западных политиков и влиятельных персон в самых разных сферах как неоспоримая истина, как абсолютный мейнстрим в мировой политике и экономике и более того, как универсальная система для всех областей человеческого взаимодействия.
Через «рейганомику», тэтчеризм индивидуалистическая модель стала политической реальностью в США и в целом на Западе, а через «Вашингтонский консенсус» была навязчиво предложена как единственно верный рецепт развития для остального мира.
Так появилась «Экономическая демократия» и система «Realeconomik», которая ко второй половине двухтысячных годов оформилась в тренд ведущий к «миру лишенному смысла».
2. Ещё одним ключевым фактором фактической деградации мировой политической системы стала глубоко ошибочная интерпретация итогов окончания холодной войны и крушения коммунистической системы как торжества и даже триумфа индивидуалистической стратегии и «экономической демократии» в стиле Рейгана и Тэтчер и мир «достиг конца истории».
Возникла идея искусственно сконструировать однородный «новый мир» на принципе негативной свободы, т. е. предельного индивидуализма, мир, где все люди были бы свободны делать то, что они хотят, без принуждения и ограничений со стороны элит и правительств.
Согласно этой теории, если разрушить все старые институты, ликвидировать элиты, которые говорили людям, что нужно делать, и вместо этого позволить индивидуумам вести себя независимо и по рыночным правилам, эти индивидуумы станут новым видом рациональных существ, которые будут добиваться организации общества так как это необходимо для их рыночной деятельности. Из всего этого вырастет новый порядок и новая демократия, когда рынок, а не политика, будут давать людям то, что они хотят.
В результате практической деятельности по реализации этих «идей», подкреплённой кредитами и финансовыми вливаниями МВФ и Мирового Банка, по существу произошла российская экономическая катастрофа 1992-99 гг. Из этой экономической катастрофы возник новый порядок, но это, как теперь всем хорошо понятно, не был спонтанный порядок, нарисованный в утопиях свободного рынка, в мечтах Хайека, Фридмана и российских «младореформаторов» времён Ельцина. Это оказалось нечто совсем противоположное.
Затем этот подход был реализован в попытке решить международные проблемы через военно-силовое смещение опасных (действительно опасных) диктаторов в расчёте на то, что освобожденный индивидуализм и рыночные механизмы всё сами собой исправят. Наиболее яркий пример полученного результата - последствия американского вторжение в Ирак.
3. Система “Realeconomik” в сочетании с глобализацией привела к необратимому неравенству. Мир разделился на страны развитые и неразвитые навсегда. Разрыв в качестве и продолжительности жизни, образовании, медицине, уровне технического развития стал непреодолимым. По существу сути практически исчезли развивающиеся страны (за исключением буквально нескольких). Утрата всякой перспективы у населения значительной части стран привела к миграционному кризису в Европе и появлению ИГИЛ. Углубление неравенства между странами (как и внутри них) будет усиливаться и конфликты, вытекающие из этого обстоятельства станут печальным и опасным смыслом международной жизни в XXI веке.
4. Серьёзной причиной и предпосылкой нынешнего глобального кризиса стала неспособность европейской бюрократии выработать стратегии качественно нового этапа развития ЕС. Крушение Берлинской стены ознаменовало собой не «конец истории», а конец стратегии. После 1991 года произошла стремительная интеграция в ЕС восточноевропейских и балтийских стран, при этом, однако, никакого перспективного видения дальнейшего развития Евросоюза и никакой созидательной стратегии по отношению к России, Украине, Белоруссии и Молдове так и не было создано, исчезло понимание большой Европы от Лиссабона до Владивостока и европейская ситуация зашла в тупик.
5. В результате соединения технических плодов четвёртой промышленной революции - технологий влияющих непосредственно на психику, поведение и сознание людей - с капитализмом, уходящим от своих основ, и карнавальной политикой (шоу и борьба за внимание аудитории вместо содержательного разговора и решения проблем), зародилось новое качество, которое может представить угрозу глобального масштаба.
Одним из проявлений кризиса, стало то, что старшее поколение (старше 35 лет) не смогло связать прогресс информационных технологий с достижениями XX века. А молодёжь приняла прогресс как данность, но не знает, для чего он, что он значит, к чему обязывает. Частью новой реальности стало размывание стандартов информационной политики, положение, когда выше правды и достоверности фактов становятся «клики» и дивиденды (не только финансовые, но и имиджевые, политические и т.д.), приносимые «кликами».
[1] «Политические и экономические следствия этого замедления (роста развивающихся стран – прим. авт.) будут фундаментальными. Миллиарды людей будут беднее и в течение более долгого времени, чем можно было ожидать еще несколько лет назад» (Hold the catch-up. Incomes in the developing world are no longer speeding toward those in the rich. – The Economist. 12.09.2014. Доступ: http://www.economist.com/news/leaders/21616951-incomes-developing-world-are-no-longer-speeding-toward-those-rich-hold-catch-up (проверено 14.07.2017)
[2] Как свидетельство важности темы и растущего интереса к ней во всем мире приведем книгу П. Мишры «Век гнева» [Mishra 2017] Выводы автора о причинах происходящего спорны, но яркое описание глобального кризиса сознания и состояния современного человека, осознающего бесперспективность своего существования, оставляет сильное впечатление. Нельзя не отметить и авторское понимание того, что масштаб происходящего делает необходимым глубокий всесторонний анализ ситуации, в которой оказался современный мир.
[3] Этот тренд П. Мишра объясняет, опираясь на концепцию ресентимента. Идея ресентимента своим рождением обязана Ф. Ницше, а М. Шелер разработал на ее основе концепцию, в центре которой – ситуация фрустрации, сочетающая чувства зависти, ненависти и мести [Ницше 1990; Шелер 1999]). Термин ressentiment, что по-французски значит «злопамятство, злоба, обида», в англоязычном контексте выглядит соединением resentment (злоба, обида, возмущение) и sentiment (чувство). По сути, это рост взаимной ненависти и раздражения всех всеми [см. подробнее Козлов 2017]. П. Мишра расшифровывает это так: «Отрицание существования других людей на экзистенциальном уровне, обусловленное насыщенной смесью зависти, чувства унижения и бессилия, ― ressentiment по мере своего распространения и углубления, отравляет гражданское общество и подрывает политическую свободу, и готовит глобальный поворот к тоталитаризму и токсическим формам шовинизма» [Mishra 2017: 14].
[4] Проблема не в умении пользоваться гаджетами и не только и даже не столько в соотношении технических изменений и индивидуальной психики. У части людей всегда были проблемы с приспособлением к техническим новшествам, их непонимание, неприятие и т.д. Однако всегда была влиятельная и активная, пусть и представляющая меньшинство часть, которая шла вперед и показывала путь другим. А сейчас появилось ощущение, что сами идущие впереди, не знают, куда идут, не видят реалистичной картины будущего, что слепые пытаются вести слепых и вот-вот все окажутся в глобальной яме. Если страхом XX в. было восстание машин (роботы, которые вышли из-под контроля и уничтожают человека), то теперь речь идет о том, что сознание человека изменяется так, что он не узнает самого себя и постоянно опасается, остался ли он человеком. Человечество сомневается в своей идентичности. Автор популярной концепции цивилизации Юваль Ной Харари в новой книге «Homo Deus» пришел к выводу: “Once technology enables us to re-engineer human minds, Homo sapiens will disappear, human history will come to an end, and a completely new process will begin, which people like you and me cannot comprehend” (Как только технология позволит нам переконструировать человеческий разум, Homo sapiens исчезнет, история человечества завершится, и начнется совершенно новый процесс, который люди, подобные вам и мне, не в состоянии понять) [Harari 2016: 114-115].
[5] Для качественного осмысления того, что происходит сейчас с человеком и миром, было бы полезно использовать понятие хронотопа, предложенное А.А. Ухтомским в контексте его исследований в области физиологии [Ухтомский 2002]. Уже сам ученый придал ему более универсальный характер, а в дальнейшем понятие закрепилось в философско-гуманитарной сфере как одна из категорий осмысления места человека в мире и его предназначения. Хронотоп в нашем понимании – категория, характеризующая увязку (стыковку) пространства (некое содержание обстоятельств существования) и времени (прошлое, настоящее, будущее) в индивидуальном и общественном сознании. Хронотоп – закономерная связь пространственно-временных координат. В хронотопе индустриального модерна, связанном с понятием прогресса, существует достаточно четко определенное прошлое и будущее, а настоящее – точка, которая движется от прошлого к будущему. В постмодернистском хронотопе (стремящемся к доминированию сегодня) актуальное человеческое сознание из движущейся вперед точки превращается в размытое пятно смешения настоящего с прошлым. Будущее почти не просматривается. Утрачивая ясность перспективы, жизнь становится разноскоростной, разнонаправленной, фрагментированной. Использование понятия хронотопа для осмысления влияния Четвертой промышленной революции на индивидуальное и общественное сознание в XXI в. – перспективная тема для исследования, но в рамках данной статьи важно хотя бы обозначить это направление.
[6] В рядах этих политиков, в частности, и Трамп с его обещанием «снова сделать Америку великой», и лозунги противников ЕС в Европе, обещающих «вернуть» европейские страны их народам, и ностальгия по «славным советским временам» в России. В Индии, Китае, Иране, Турции again policy выражается в отрицании европейского пути развития цивилизации и попытке заменить его чем-то не очень определенным, но, несомненно, с мыслью о восстановлении былого национального (национал-имперского) величия и претензией на роль регионального или глобального цивилизационного центра (политика Нарендры Моди, Реджепа Эрдогана, Си Цзинпиня и КПК в целом, иранских аятолл). В России – это навязываемая властью ностальгия по СССР, попытка вернуть контекст холодной войны и стремление к «новой Ялте» «на троих» с США и Китаем. В реальности избиратели Трампа из «ржавого пояса Америки» так и не дождутся рабочих мест для себя на вернувшихся из Мексики, Индии, Китая производствах. Производства, может быть, и вернутся, но место человека займут роботы, автоматизированные системы, основанные на новых технологиях. По оценкам экономистов Дарона Аджемоглу из Масcачусетского технологического института и Паскуаля Рестрепо из Бостонского университета, к 2025 г. роботы оставят без работы по пессимистичным оценкам от 3.3 до 6 млн. человек, по оптимистичным – от 1.9 до 35 млн человек [Acemoglu, Restrepo 2017]. Что же касается социально-политических конструкций, то надо помнить о том, что тупиковый характер выбора между национализмом и империализмом уже осознавался западноевропейскими политиками и интеллектуалами в середине XX в. Ответом на этот вызов и решением задачи поиска стабильной политической конструкции для послевоенной Европы стала концепция союза наций, основанного на взаимных гарантиях безопасности – Евросоюза. Отказ от найденного ответа заведомо оставляет мир в ограниченном пространстве между двумя национализмами: изоляционистским и имперским.
[7] Известно, что многое из того, что сегодня оказалось в западном идеологическом мейнстриме, в 1950-1960-е годы составляло содержание секретных разработок ЦРУ, активно работавшего над рецептами обеспечения победы США в его холодной войне против СССР.
[8] Именно это проявилось в Великобритании на референдуме о выходе из ЕС – как отмечали СМИ, все рациональные доводы консолидированной элиты о выгодах пребывания в ЕС разбивались о чувство усталости масс от космополитической элиты, занятой, по преобладающим ощущениям, обеспечением собственного благополучия. Нечто подобное происходило и во время президентских выборов 2016 г. в США: у масс избирателей стихийный протест против оторвавшейся от мира «простых людей» глобализированной элиты брал верх над доводами разума и даже над соображениями практической выгоды.
[9] Эту мысль в 1987 г. предельно точно сформулировала бывшая тогда премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер: «Общества как такового не существует. Есть существующие сами по себе мужчины и женщины, и есть их семьи. Любое правительство может сделать что-либо только действуя через них, и они в первую очередь должны позаботиться о себе» («…There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first”). – Интервью Маргарет Тэтчер. Women's Own magazine. 31.10.1987. URL: http://www.quotationspage.com/quotes/Margaret_Thatcher (проверено 22.07.2017).
[10] Отсюда и растерянность, сквозившая в высказывании Ангелы Меркель после встречи «Большой семерки» в мае 2017 г.: «Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни». (РИА Новости. Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других. 28.05.2017. Доступ: https://ria.ru/world/20170528/1495255714.html (проверено 17.07.2017).
[11] Более того, такой подход, как минимум, не кажется неприемлемым значительной части мирового крупного бизнеса, что, в частности, показала дискуссия на Давосском форуме 2017 г., где уже раздавались возгласы “Welcome, China”. Не имеет, мол, большого значения, кто лидер, лишь бы можно было зарабатывать, «король умер, да здравствует король».
[12] Достаточно вспомнить такие прецеденты в истории, как переход лидерства от Венеции к Генуе, от Фландрии к Бельгии, от Британии к США.
[13] Подробно, хотя и весьма односторонне это явление проанализировано в работах британского кинодокументалиста Адама Кёртиса, посвящённых кризису современного общества (см., например, Адам Кёртис «Век эгоизма» https://rutube.ru/video/7072816fd17f483b0c0faf55a2c0e4cb/ или Adam Curtis “The Trap What Happened to Our Dream of Freedom”, https://m.youtube.com/watch?v=BomLz15ibS4 и др.).